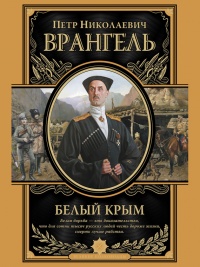Книга Из Египта. Мемуары - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Доброй ночи, Herr Doktor, – бросил он на прощанье.
– Доброй ночи, доктор Спингарн, – ответил я, решив не допытываться, откуда он знает этот пассаж из Пруста.
Полчаса спустя по пути в душ меня перехватили кузен с женой.
– Пойдем, только тихо. Не пожалеешь.
Они объяснили, что каждый вечер, между десятью и одиннадцатью часами Вили слушает на французском передачу из Израиля. Я изобразил удивление.
– На ночь обязательно слушает эту программу. Потом выключает свет и ложится.
– И что? – спросил я.
– Увидишь.
Мы встали у него за дверью.
– Каждый вечер одно и то же, – прошептала жена кузена.
Они что, собираются постучать и попросить впустить их или же намерены вломиться к нему без стука?
– Увидишь.
Наконец заиграл гимн Израиля, потом послышался писк, обозначавший завершение трансляции.
– Уже скоро, – пояснил кузен.
В комнате что-то щелкнуло. Вили выключил радио. Заскрипели под его тяжестью пружины, зашуршали простыни, погасла полоска света под дверью. На мгновение все стихло. А потом до меня донеслось слабое, приглушенное, тонкое бормотание, паром сочившееся в коридор сквозь замочную скважину, сквозь щель под дверью, сквозь трещины в притолоке, точно фимиам и предчувствие, наполнявшие тихий сумрак, в котором стояли мы трое, жутковатая путаница знакомых слов в ритме, к которому и я давным-давно привык, стыдливый, украдкой, шепоток.
– Спросишь – ни за что не признается, – сказал кузен.
Двум дамам, которым однажды суждено было стать моими бабушками и которые познакомились в 1944-м на александрийском базарчике, где с подозрением присматривались к явно лежалой барабульке, мир, бесспорно, казался очень тесным и странным. Сквозь их первые застенчивые, осторожные реплики, произнесенные густо накрашенными губами за респектабельными вуалями, будто пробилось яркое солнце, и неожиданно две совершенно чужие женщины, добрые десять лет знавшие друг друга только в лицо и не осмеливавшиеся перемолвиться словом, разговорились с головокружительным восторгом, точно бывшие одноклассницы, возобновившие беседу с того самого места, на котором расстались полвека назад. Каждую сопровождал мальчик-слуга, которому ни одна, ни другая не доверяла и с которым уж точно не стала бы разговаривать: его задача заключалась в том, чтобы следовать за своей мудрой пожилой mazmazelle – всех европейских дам определенного возраста и положения в Египте зовут mademoiselle или signora, – смотреть, как госпожа выбирает хорошие фрукты среди гнилья, слушать, как она торгуется на практически неразборчивом арабском, вмешаться, если страсти накалятся, ну и, наконец, таскаться с покупками от лотка к лотку, пока не отошлют домой готовить обед. Mazmazelles, не раздумывая, голыми руками щупали сырую печенку или поддевали пальцем жабры барабульки, чтобы доказать, что рыбу выловили никак не сегодня, но ни та, ни другая сроду не взяла бы ничего из рук мужлана-лоточника. Для этого существовал слуга. Далее mazmazelles могли располагать собой до часу дня, когда их мужья возвращались домой отобедать и подремать.
– Значит, сегодня без барабульки, – заключила одна. – Но до чего обидно! Подумать только, все эти годы я покупала несвежую рыбу и даже не догадывалась об этом, – печально добавила она.
– Потому что нужно смотреть на жабры. Не в глаза. Жабры должны быть ярко-красные. Если нет, не берите.
– До чего обидно, – повторила на обратном пути более кроткая из двух, – все эти годы мы жили ровно напротив друг друга и даже не здоровались.
– Почему же вы ни разу со мной не заговорили? – удивилась та, которая прекрасно разбиралась в рыбе.
– Я думала, вы француженка, – ответила кроткая соседка (имелось в виду, знатная француженка).
– Француженка? Это еще почему? Je suis italienne, madame[13], – присовокупила она, как будто это куда почетнее.
– И я!
– Правда? Вы тоже? Мы из Ливорно.
– Как и мы! Надо же, какое чудесное совпадение.
До чего все-таки тесен мир, заметили они на ладино (каждая упрямо звала его «испанским»), который, как выяснилось у рыбного лотка, знали обе: одна пыталась объяснить другой, почему барабулька сегодня несвежая, и тут-то оказалось, что ни та ни другая не знает, как называется барабулька, ни на одном из шести-семи языков, на которых обе свободно говорили, а помнят это слово только на ладино.
Когда пришла пора прощаться, они договорились назавтра поутру встретиться пораньше и пойти на базар.
– У нее такие изысканные манеры, – рассказывала мужу в тот день более кроткая из двух.
– Изысканные? Скажешь тоже! – усмехнулся он. – Ее муж держит бильярдную.
– Твой магазин велосипедов лучше, что ли? – парировала та.
– В сто тысяч раз лучше, – муж даже повысил голос.
Однако же, несмотря на его скепсис, она отныне называла соседку une vraie princesse[14]; та же, у которой, в свою очередь, состоялся похожий разговор с мужем, настаивала, что соседка ее, хоть и не tr s high-class[15], зато ни дать ни взять une sainte[16].
Святая была доброй и меланхоличной старушкой, порой разговаривала сама с собой, частенько всё теряла и забывала. Забывала, где что спрятала и от кого. Теряла ключи и перчатки, забывала имена, даты, долги и распри. Теряла нить рассказа, потом, силясь вспомнить, нащупывала мысли, нанизывала случайные слова, надеясь, что, если говорить достаточно быстро, удастся внушить собеседникам иллюзию логики, и не догадывалась, что эти-то стремительно сменявшие друг друга бессвязные высказывания сильнее всего выдают ее забывчивость. Порой, совершенно запутавшись, все-таки признавала поражение.
– Пустяки, с кем не бывает, – говаривала Святая и глубоко вздыхала, стараясь одолеть тревогу. – Потом вспомню, – обещала она, зная, что в родном ее итало-византийском мире чихнуть на полуфразе считается подтверждением истинности слов, забывчивость же свидетельствует о лжи. Дабы усыпить это подозрение, перемежала паузы клятвами – «клянусь глазами дочери» или «клянусь могилой матери», – но из-за частой божбы стала сомневаться в правдивости собственных рассказов, полагая, как частенько бывает у стариков, что сама же скорее преувеличила, чем забыла.
Запамятовав имя собеседника, принималась искать его в замысловатом лабиринте фамильных имен, невольно выдавая место, которое он занимал в иерархии ее сердца: на первом ее сын, Роберт, потом три его дочери, я сам, потом ее глухая дочь, ее братья, соседи и, наконец, муж.