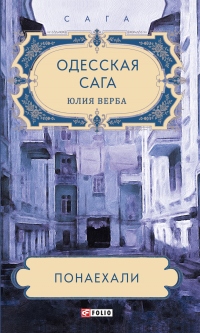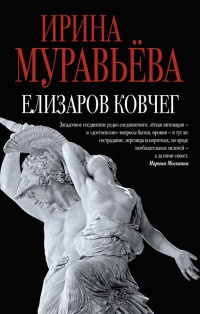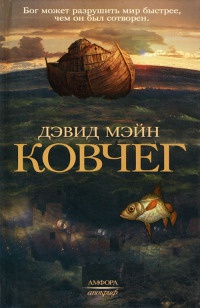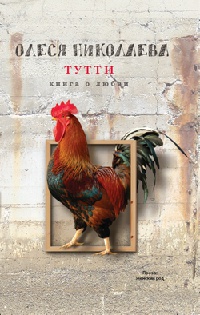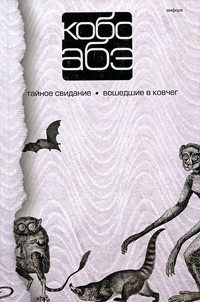Книга Одесская сага. Ноев ковчег - Юлия Артюхович (Верба)
Читать книгу Одесская сага. Ноев ковчег - Юлия Артюхович (Верба) полностью.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Книги схожие с книгой «Одесская сага. Ноев ковчег - Юлия Артюхович (Верба)» от автора - Юлия Артюхович (Верба):
Комментарии и отзывы (0) к книге "Одесская сага. Ноев ковчег - Юлия Артюхович (Верба)"