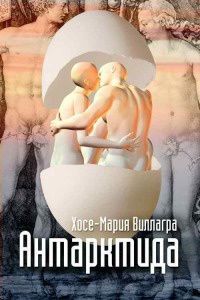Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хаим, почему ты не уедешь на юг, в свободную зону?
Немедленный ответ, будто ему не требуется ни секунды на размышление:
Там нет молока.
Может быть, маршал Петен выпил все молоко? Или все коровы улетели? Или они есть только на севере в оккупированной зоне? Не боятся ни гусениц танков, ни мотоциклов с колясками, ни военных сапог?
Он боготворит их животную теплоту, сокровище их вымени, струи благодатного молока, которое в смеси с порошком висмута ненадолго дарит его животу облегчение. И он ненавидит коров, которых забросил своей кистью в витебское небо Шагал, едва прибыв в Улей на Пассаж-де-Данциг.
Что ему делать там внизу? Там нет молока.
И Хана, качая головой, отворачивается, желает ему счастья, натягивает крылья на крепкие руки скульпторши, просто и отчетливо произносит: «Я буду швеей в Яффе», воспаряет высоко над Вилла-Сера и уносится вместе со своим сыном в Швейцарию. Его старые друзья из Минска и Вильны все отправились на юг, едва были прорваны Арденны. Кикоин находит пристанище в Тулузе у своего сына Янкеля в мае сорокового. Кремень удаляется в оторванный от мира Коррез, практически на Луну, пережидает войну, нанявшись рабочим на ферму. Сутин остается.
Там нет молока.
3 сентября 1939 года, в день, когда Франция объявила войну Германии, они с мадемуазель Гард находились в бургундской деревне Сиври; он отправляется в деревенскую лавку, где хмуро перебирает шелестящие вестники несчастья, испещренные черными размазанными буквами: LA GUERRE! Однако война на западе, казалось, проспала свое собственное начало. «Сидячая война» вдоль линии Мажино, все спокойно, солдаты на укреплениях играют в карты, веселятся, курят. Ничего не происходит. День за днем Сутин торопливо раскрывает газеты. Он не доверяет этому тревожному спокойствию, любому спокойствию. Война не спешит и, словно художник, поначалу целиком посвящает себя БЕЛОМУ ПЛАНУ. В Польше Германия делит будущую добычу со сталинской страной. Там нет молока. Война продолжает рисовать, за БЕЛЫМ ПЛАНОМ следует ЖЕЛТЫЙ ПЛАН, поход на запад, 10 мая 1940 года. «Удар серпа», капитуляция Нидерландов и Бельгии, прорыв к Ла-Маншу. Начался великий исход, семь миллионов французов покидают север, бегут с пожитками в сторону юга.
Там нет молока.
Линию Мажино обходят с юга, немецкие войска устремляются в брешь под Седаном, прорыв через Арденны 14 мая 1940 года, наступление танков, бросок к сердцу, издалека слышно, как оно колотится. Месяц спустя танковые гусеницы грохочут по улицам Парижа, город занят без боя. Наконец компьенское перемирие 22 июня, жизнь при оккупации.
Счастливчик тот, кто сумел вовремя исчезнуть. Или тот, кто хотя бы знает, куда еще можно податься. Золотой век Парижа закончился. Генри Миллер еще в июле тридцать девятого:
Вот и конец долгого французского рая. Сегодня вечером жду знаменитую речь Гитлера. Весь мир сидит на заднице и ждет чуда.
Теперь только Греция, еще пять месяцев вдыхать Европу жадными ноздрями, наполняя легкие светом, нанести визит Гомеру, поздороваться с Корфу, испить смолистого греческого вина, насобирать, словно пчела, жизненного вещества для Колосса Маруссийского, а потом в Бруклин, на старую родину, благосклонно раскрывшую объятия, чтобы стать надежной гаванью для своих сынов, вернувшихся из рассеяния. Довольно было выпито хинного вина маленькими глотками и виноградной водки из крохотных рюмочек, темного пива и коктейлей «Мандарин-Цитрон» в роскошной парижской эмиграции. Довольно «Амер-Пикона». Довольно взволнованных споров в салоне Гертруды Стайн. Довольно наблюдать блистательного Пикассо. Золотые годы. Все в прошлом. И с раздражающей медлительностью танки входят в город, некогда звавшийся городом света, и гасят свет ушедших лет.
Молоко было для него всем. Его питание состоит почти только из молока и порошка висмута. Они должны сдерживать выделяющиеся желудочные соки. Там, где есть молоко, прекрасное, белое, пенящееся, там есть возможность усмирить боль. Врачи выписывали ему всяческие медикаменты, папаверин, ларистин, или как они там называются. И мадемуазель Гард приносит ему лекарства, но поначалу он их с гневом выбрасывает. Верит лишь в силу молока с божественным ингредиентом, с висмутом. Райское белое коровье молоко, лунный свет для шумеров, дивная живительная влага. Дивная струя из небесного вымени.
Он не хочет удаляться от Парижа, остается в той же самой оккупированной зоне, только несколькими топографическими сегментами ниже. Город – его центр Земли, пусть теперь его топчут оккупанты, главное, что он все еще существует. Оскверненный – да. Это чувствовал каждый, кому встречался на тротуаре один из этих веселых отрядов в серых желваках солдатской формы или до кого долетал рев сверхчеловеков на Марсовом поле. В шахтах и переходах метро раздаются их голоса, безучастное эхо разносит стук начищенных сапог. Но еще более зловещее впечатление производит призрачная тишина. Только редкий германский транспорт на улицах города-трупа. Белесый, чахлый, слепой свет. Широко расставленные ноги на перронах метро, широко, победно рассевшиеся зады в пригородных поездах. Насмешливые взгляды, скользящие по бледным стройным ногам молодой женщины напротив. Город-труп. Призрак. Оккупация, невидимая и вездесущая. Черные мундиры за дверями «зипо», полиции безопасности под начальством доктора Кнохена на авеню Фош, гестапо обосновалось на улице Лористон.
Когда-нибудь он восстанет снова, все еще покрытый шрамами, удрученный потерями, но по-прежнему и вновь отчаянно прекрасный. Тогда полотна выберутся наконец из подвалов и поведают о недолгом тысячелетнем рейхе.
Там нет молока.
И художник Хаим Сутин не оставляет надежды, что в одно прекрасное утро призрак развеется. Пройдет, как желудочная язва. В то время как многие другие устремляются в средиземноморские порты, на карачках перебираются через Пиренеи, ждут виз, чтобы умчаться в Палестину, Шанхай или Южную Америку, Сутин скрывается в изумрудно-фиолетовом Шампиньи, недалеко от Луары и города Шинона. Оттуда тайными путями можно добраться до Парижа, где есть врачи, которых он знает, есть зачарованное, печальное царство Монпарнаса, мастерские, кафе, рассеявшиеся художники, торговцы, у которых можно раздобыть кисти, палитры, тюбики. Кого интересует, по какой цене! Там его краски, его молоко. Ни малейших попыток пересечь демаркационную линию под покровом ночи. От Буэнос-Айреса или Чикаго до Парижа почти как до другой планеты. В 1913 году этот город был единственной целью его жизни, так почему он должен так скоро его бросить? Как же мечты о столице мировой живописи, которые он делил с Кико и Кремом, когда они жили в Минске и Вильне? Американцам он уже известен, первая выставка проходит в декабре тридцать пятого в «Артс-Клубе» в Чикаго, на афише написано PAINTINGS BY HAIM SOUTINE, возможно, там бы его приняли с распростертыми объятиями. А легендарный доктор Барнс из Мериона, штат Пенсильвания, вступивший в 1923 году, будто грозный бог фармацевтики, в квартиру Зборовского, – быть может, он предвосхитил тайную эмиграцию Сутина, когда увез с собой его картины? Часть Сутина уже давно в Филадельфии. Каждая из этих картин – чем не цветистый паспорт? Призрак развеется. И тогда ему нужно быть рядом, одним махом перенестись от Луары до Сены.