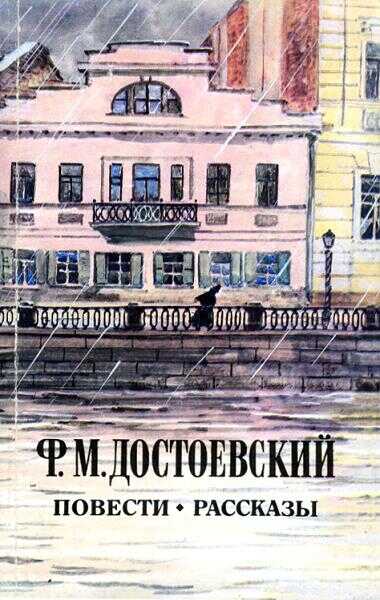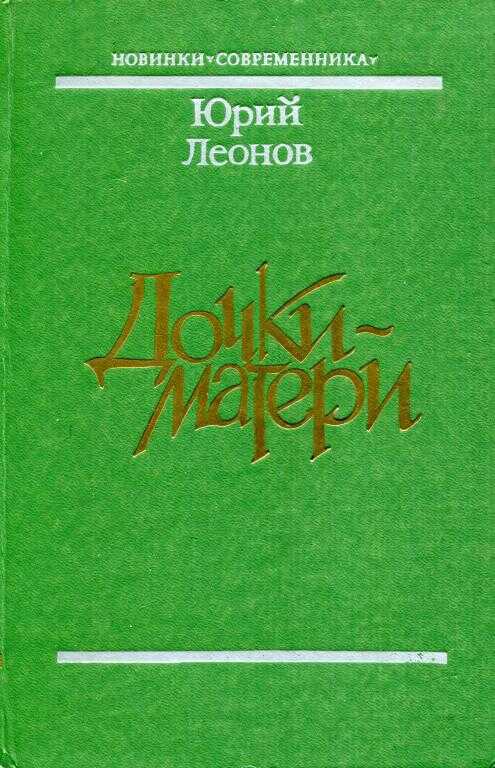Книга Двое на всей земле - Василий Васильевич Киляков


- Жанр: Книги / Классика
- Автор: Василий Васильевич Киляков
(18+) Внимание! Аудиокнига может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала.
В книгу выдающегося русского писателя Василия Килякова вошли две повести о современности. Судьба одного из бывших исполнителей смертных приговоров описана в «Светлых далях Евсеича». Автор повести взглядом художника и психолога стремится предостеречь нас от «расстрела» собственной истории, опыта наших дедов и прадедов, прямолинейного и лукавого «обличения» величайшей и трагической эпохи. Сюжет «Последних» читается как триллер, и всё-таки занимательность повествования — лишь верхушка айсберга. Герой повести в девяностые годы вынужден, спасая семью от голода, уйти из армии и стать телохранителем бизнес-вумен: «Именно то, что я больше всего презирал в жизни, стало и судьбой, и профессией». Выбив отпуск, он уезжает в деревню, где прошло его детство.
Шрифт:
Интервал:
Закладка: