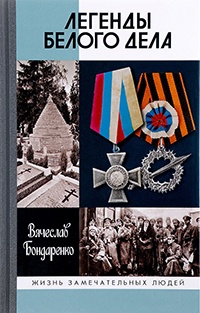Книга Диктат Орла - Александр Романович Галиев


- Жанр: Историческая проза / Приключение / Военные
- Автор: Александр Романович Галиев
(18+) Внимание! Аудиокнига может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала.
Цареубийство, гражданская война, искоренение искренней веры — первые шаги во тьму ХХ века — наблюдают братья Геневские. Они вдохновенны, полны идей и сомнений. Их взгляды из 1918 года еще такие разные, но в одном тождественные — молодые люди верят в светлое будущее звезды России. Колоссальный путь проходят герои романа в рядах Добровольческой армии — от надежды к обреченности, от любви к смерти — в попытках обуздать тьму, осушить топи кровавой реальности. Следуя по страницам истории, исправно опирающейся на подлинные факты, переживая сражения, мучительные раздумья, опьяненность жизнью — точки, пересекающие координаты судеб персонажей — не оставляем отчаянную надежду на иной исход перипетий минувших дней. Вновь и вновь пытаясь понять, где произошла «осечка», читатель на одном дыхании проживает десять лет из жизни белого движения.
Шрифт:
Интервал:
Закладка: